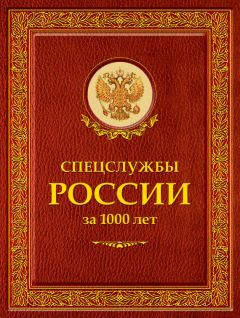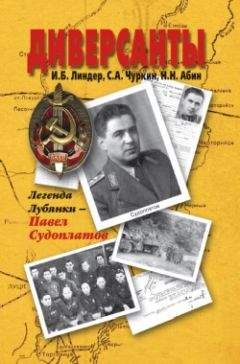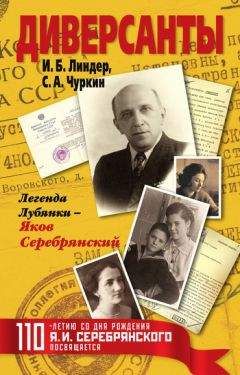признаться в крамольных мыслях.
В 1874 году в Новый Афон, который тогда назывался Псырц-ха, как речка, бегущая со склонов горы, прибыли монахи из греческого Пантелеимоновского монастыря, что в Старом Афоне. Начались переговоры о возведении Божьей обители. Император Александр II пошел навстречу, выделил землю, дал деньги на строительство – видимо, надеялся прервать череду покушений, которые следовали в его царствование одно за другим. Но не помогло. В 1879 году народники организовали взрыв царского поезда, потом Семен Халтурин взорвал бомбу в Зимнем дворце, а 1 марта 1881 года студент Игнатий Гриневицкий все-таки довершил то, к чему так стремились члены «Народной воли»: Александр II был убит. Между тем Симоно-Канонитский монастырь, такое он получил название, потихонечку разрастался. В Русско-турецкую войну 1877–1878 годов строительство пришлось прекратить, но потом оно возобновилось. И все же монастырю катастрофически не везло. Пришел семнадцатый год, а с ним новые порядки. Молодые нахрапистые революционеры в Боге не нуждались. Куда делись монахи, никому не известно. Уехали, наверное, в свою Грецию, а может, что и похуже. Хорошо хоть, здания сохранились…
Они с Машей любили бродить по развалинам. В главном храме можно было разглядеть фрески, воссоздающие эпизоды библейской истории. Плакс неплохо разбирался в сюжетах. Мать рассказывала ему о Боге, о земном пути Иисуса Христа, и теперь он, как можно старательнее, разъяснял жене то, что знал сам. Он понимал, что в стране атеистов такие разговоры опасны, но они были одни, а Марии он доверял безоглядно. Маша… Где она сейчас? Сердце защемило, но он взял себя в руки и снова окунулся в воспоминания.
Особенно хорошо было в Новом Афоне, когда наступали вечера. Солнце заходило за гору, и сразу, как это бывает только на юге, наступала темнота. Не просто темнота, а темнота бархатистая, вкрадчивая. Они с Машей ложились на теплую еще гальку и искали Большую Медведицу – единственное созвездие, которое знали. Потом долго гуляли, взявшись за руки. Над бухтой весело перемигивались огоньки абхазских пацхи – летних кухонь. С хозяйкой одной из них, вблизи водопада, они подружились. Тетушка Нино всегда была им рада. В пузатом закопченном котле она готовила удивительно вкусную рассыпчатую мамалыгу. К мамалыге подавалось домашнее красное вино, а иногда и чача. Израиль всегда думал, что чача – это грузинская водка, но абхазы утверждали, что это их изобретение. Чачи можно было выпить много – голова оставалась ясной, только ноги почему-то переставали слушаться. Впрочем, нет, чачу они пили на другой пацхе, у широкой души Батала Джонуа. Каждый раз он устраивал им настоящий гастрономический парад. А начинался он с того, что в центре стола появлялось большущее медное блюдо, на котором горкой – нет, не горкой – горой! – лежала сочная зелень: петрушка, кинза, базилик, молодой лук, чеснок, и здесь же – кроваво-красные помидоры, разноцветные стручки жгучего перца, перец другой, сладкий… Вслед за этим выставлялись неизменные стеклянные бутылочки с приправами из алычи, сдобренной грецким орехом. Потом появлялось «абхазское масло» – жгучая аджика. Маша первый раз попробовала – долго вытирала слезы. Но и это еще не все. Обжигали жаром только что вынутые из печи румяные лепешки. Над глиняными горшочками вился ароматный парок лобио – отварной фасоли, приправленной пряным соусом, рецепт которого Маша старательно записала в первый же вечер, обещая сделать такой же в Москве. Завершала это гастрономическое безумие все та же чача. Или глиняный кувшин с холодным ачандарским вином из изабеллы…
По ссохшемуся желудку Плакса пробежали спазмы. Он жалобно застонал и очнулся. Оказывается, прошла ночь, еще одна ночь в лагере.
– Подъем! – вернул его… к смерти истошный вопль.
Перед глазами, как сквозь туман, проступила заиндевелая крыша барака. Надо подниматься… С улицы зэков подстегивал низкий звон рельса.
– Становись! – рявкнул дежурный.
В проходе выстроилась неровная шеренга. И тут и там в ней зияли провалы. До утра сумели дожить не все… «Шестерки», не дожидаясь команды, подхватили носилки, прописавшиеся у выхода, и рысцой протрусили к покойникам. Оставшиеся в живых равнодушными взглядами провожали печальную процессию. Некоторые и не смотрели вовсе. Затем в бараке прошелестела вялая перекличка, и поругивающаяся очередь выстроилась к «очку». Многие нужду справляли на ходу, прямо у барака, даже за угол не заходили. Потом завтрак – и снова эта вонючая баланда.
По утрам лагерь напоминал растревоженный муравейник. У бараков выстраивались колонны заключенных. Еще и еще раз проводилась перекличка. Отборный мат сопровождался лаем собак. Начальник лагеря страдал краснобайством. Одетый в теплый тулуп, он клеймил с дощатой трибуны «врагов народа» и «предателей», грозил «стенкой» за невыполнение норм, а потом возвращался в административный барак к теплу и свету. Вслед за ним на трибуну залезал его заместитель – зачитывать список работ. Список был неизменным – лесоповал. Были и блатные места – мастерские, кухня, больничка, – но они почти всегда доставались уркам. Те знали свое дело и на зоне по сравнению с политическими жили в общем-то неплохо. Когда кутерьма заканчивалась, черная колонна, подгоняемая собаками, выползала за ворота. Через час, а то и больше заключенные, едва волоча ноги от усталости, добирались до вырубки. И начиналась работа. Караульные в это время отогревали свои зады у костра.
В этот день Плаксу повезло: он и еще трое политических были назначены костровыми. Костровым полагалось собирать сушняк, разжигать костры и следить за тем, чтобы они не погасли. Почти как в пионерском лагере, но если не справишься – отметелят так, что мало не покажется, а могут и расстрелять, это как будет настроение у охраны. Но у охраны, по крайней мере сегодня, настроение было благодушным.
Спичка в руках Плакса сухо треснула, и подложенный мох нехотя начал разгораться. Можно было ненадолго расслабиться. Сучья в огне уютно потрескивали. Плакс грел над огнем замерзшие руки. Скоро идиллия закончится, и придется снова идти в лес за сушняком.
Время тянулось медленно, хотелось одного – спать. Пусть в бараке, пусть недолго, но спать, спать, спать…
Внезапно сторожевые псы угрожающе зарычали. Плакс присмотрелся и увидел, что по просеке торопливым шагом, почти бегом, к делянке приближаются двое. Начальник лагеря? – удивился он. Вскоре уже и сомнений не осталось – начальник собственной персоной, а за ним его услужливый зам. Такое случалось нечасто, охрана вскочила и схватилась за автоматы, заключенные прервали работу – неожиданное появление начальства ничего хорошего не сулило. Примета верная – жди беды.
Энергично размахивая руками, начальник лагеря что-то прокричал караульным. Один из них резво помчался к костровым.
– Задницу ему, что ли, подпалили? – философски изрек Сергеич.
– Подпалили-то ему, а достанется нам, –
![Белый снег – Восточный ветер [litres] - Иосиф Борисович Линдер](https://cdn.my-library.info/books/337902/337902.jpg)